Помнить или забыть? В.С. Гребенников. Уральский следопыт, 1990, №1, с.2-6
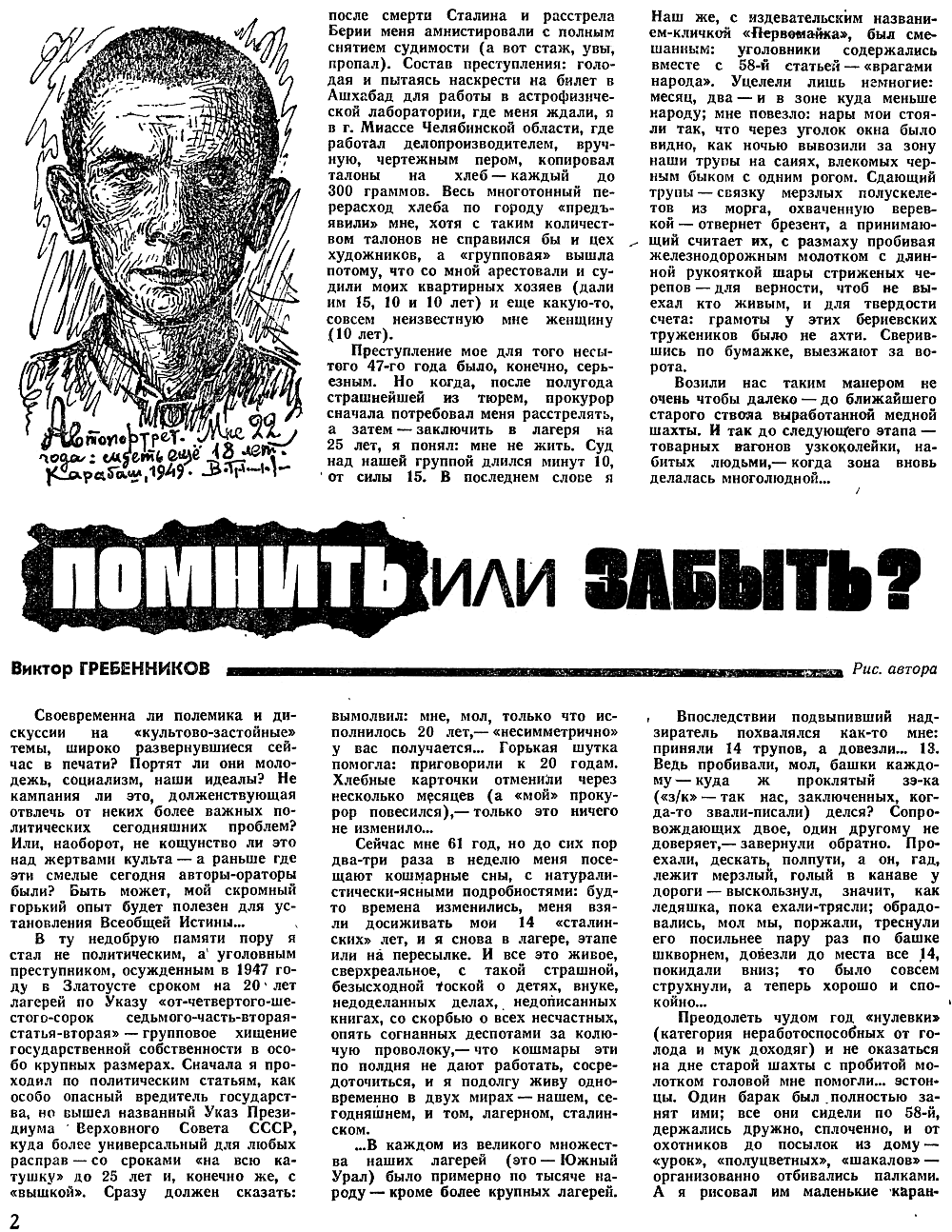
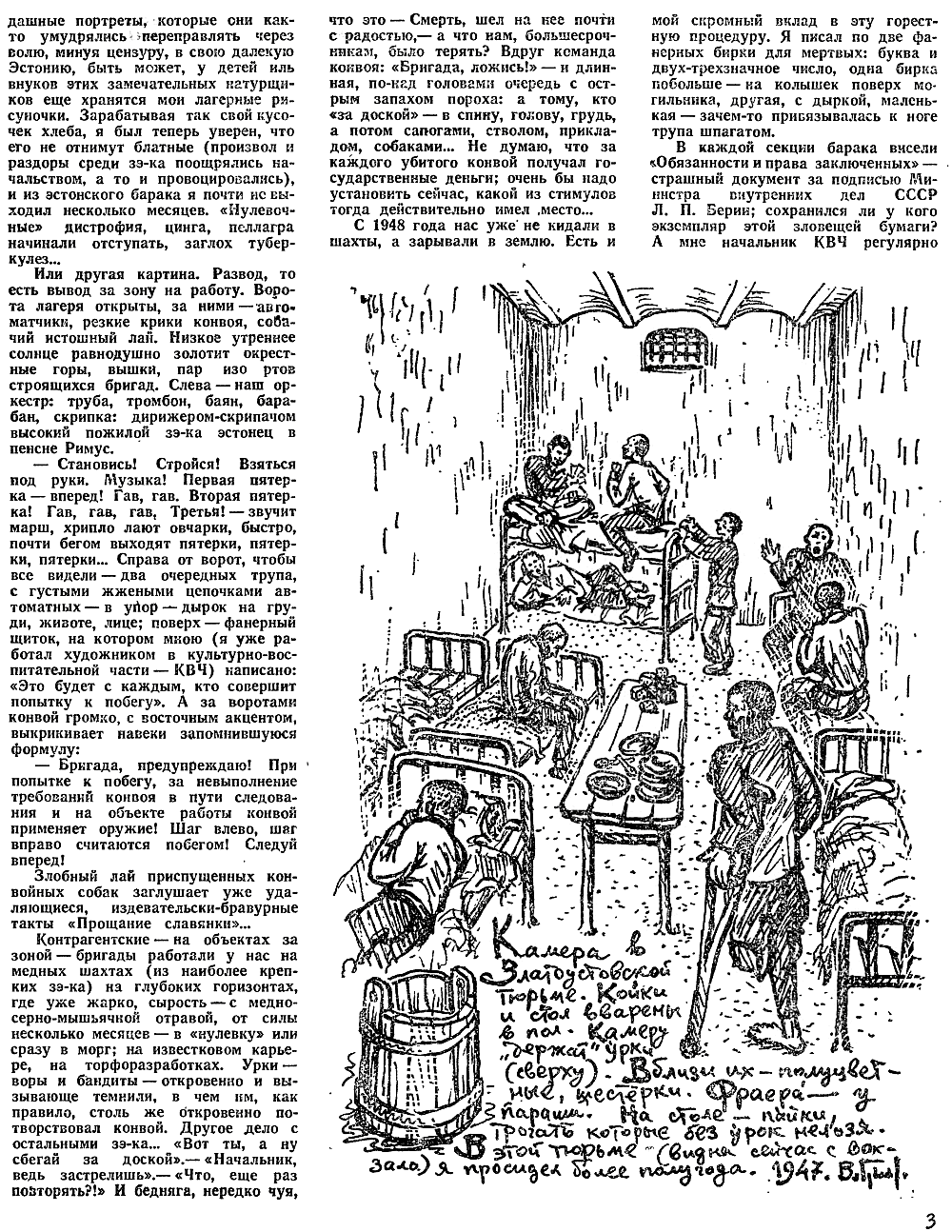
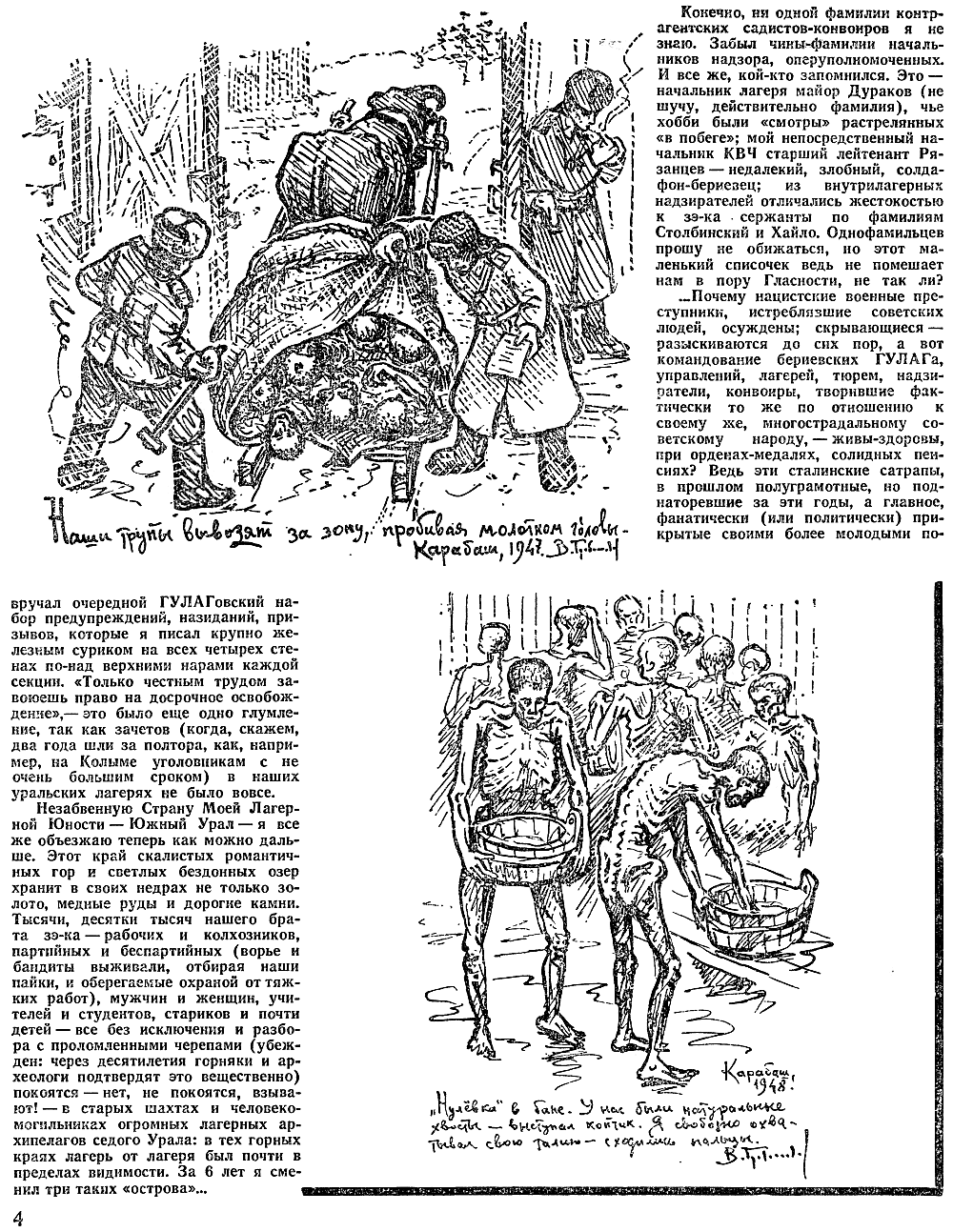
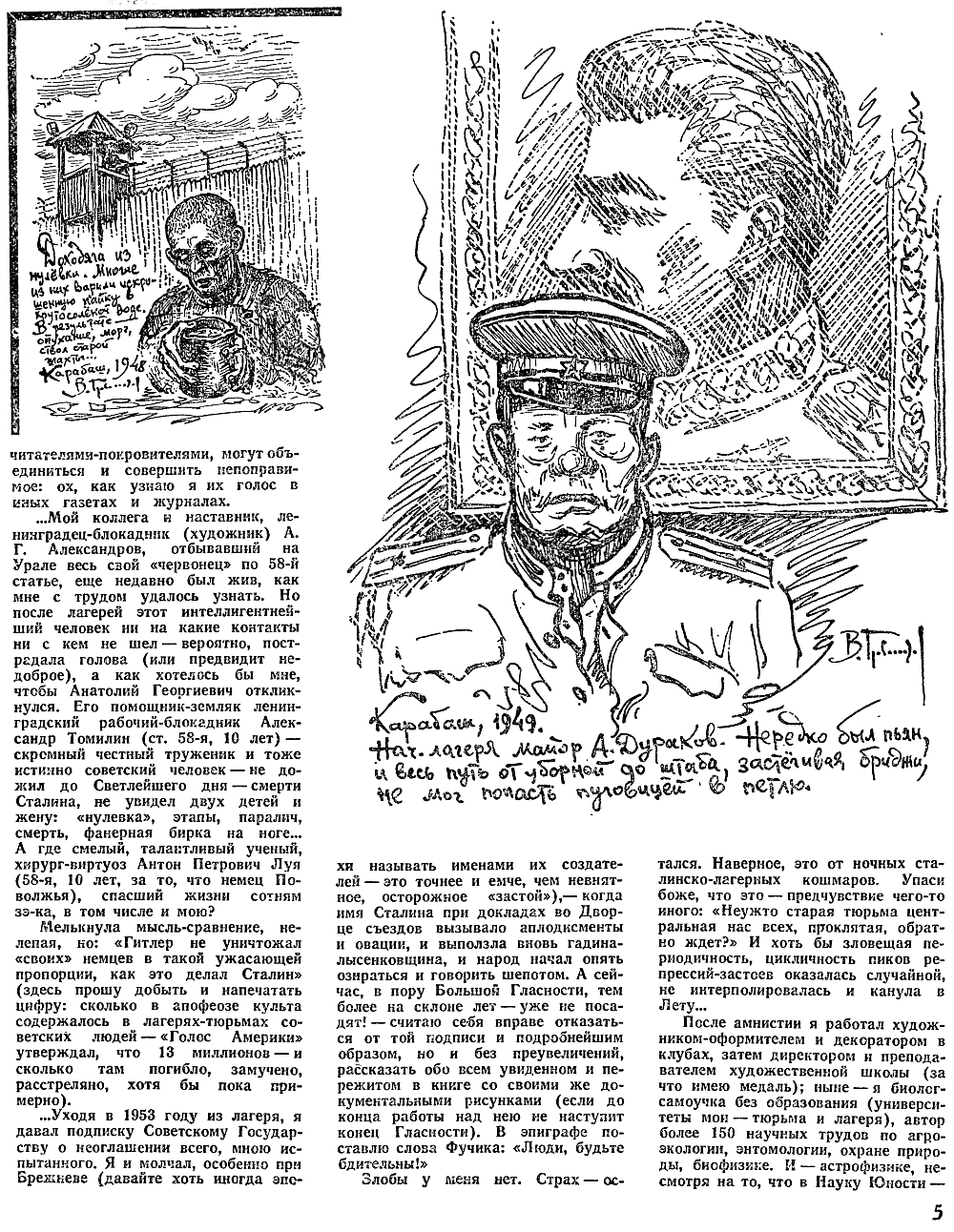
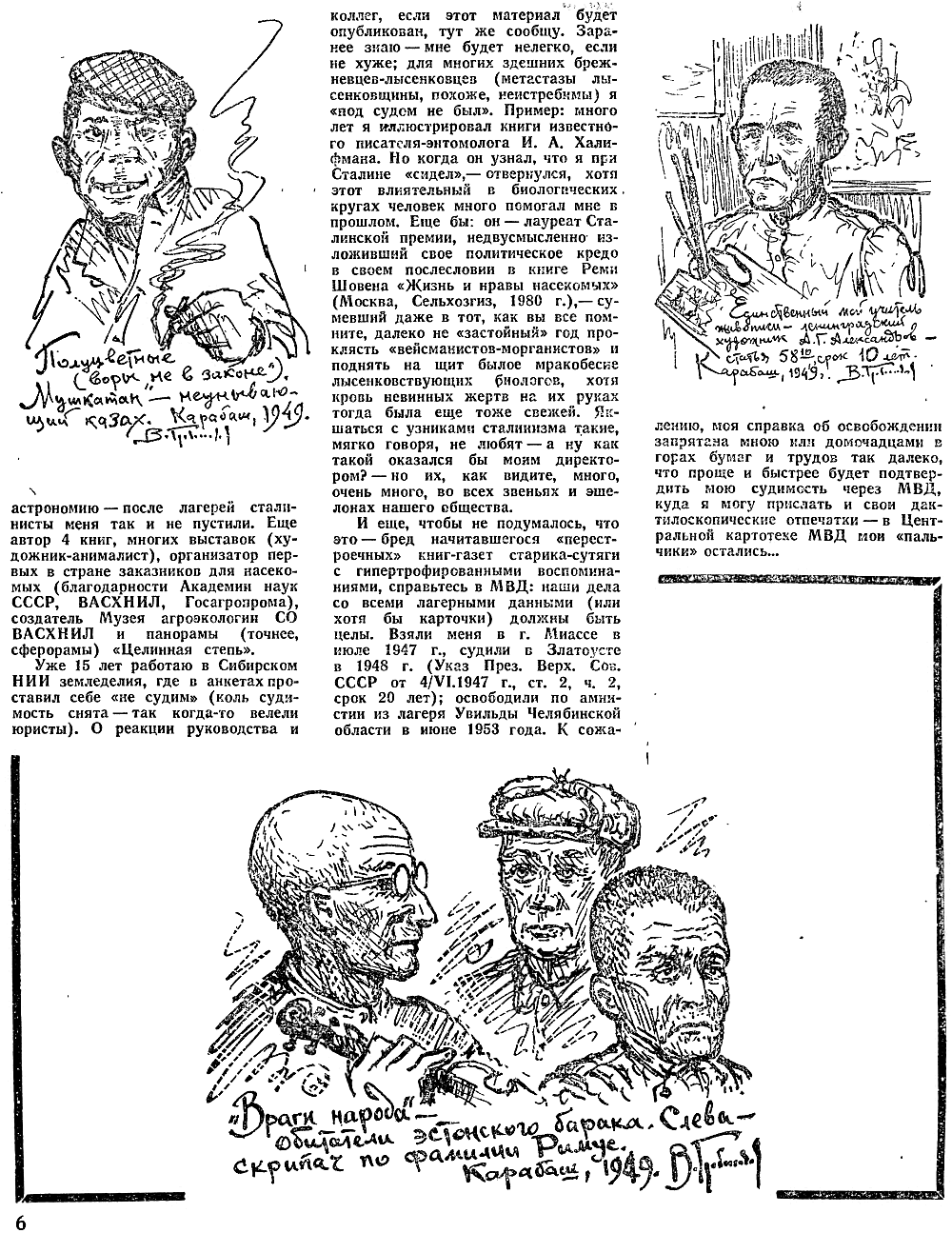
ПОМНИТЬ ИЛИ ЗАБЫТЬ?
Виктор ГРЕБЕННИКОВ
Рис. автора.
Автопортрет. Мне 22 года: сидеть еще 18 лет. Карабаш, 1949. Подпись Гребенникова.
Своевременна ли полемика и дискуссии на культово-застойные
темы, широко развернувшиеся сейчас в печати? Портят ли они молодежь, социализм, наши идеалы? Не кампания ли это, долженствующая отвлечь от неких более важных политических сегодняшних проблем? Или, наоборот, не кощунство ли это над жертвами культа — а раньше где эти смелые сегодня авторы-ораторы были? Быть может, мой скромный горький опыт будет полезен для установления Всеобщей Истины...
В ту недобрую памяти пору я стал не политическим, а уголовным преступником, осужденным в 1947 году в Златоусте сроком на 20 лет лагерей по Указу от-четвертого-шестого-сорок седьмого-часть-вторая-статья-вторая
— групповое хищение государственной собственности в особо крупных размерах. Сначала я проходил по политическим статьям, как особо опасный вредитель государства, но вышел названный Указ Президиума Верховного Совета СССР, куда более универсальный для любых расправ — со сроками на всю катушку
до 25 лет и, конечно же, с вышкой
. Сразу должен сказать: после смерти Сталина и расстрела Берии меня амнистировали с полным снятием судимости (а вот стаж, увы, пропал). Состав преступления: голодая и пытаясь наскрести на билет в Ашхабад для работы в астрофизической лаборатории, где меня ждали, я в г. Миассе Челябинской области, где работал делопроизводителем, вручную, чертежным пером, копировал талоны на хлеб — каждый до 300 граммов. Весь многотонный перерасход хлеба по городу предъявили
мне, хотя с таким количеством талонов не справился бы и цех художников, а групповая
вышла потому, что со мной арестовали и судили моих квартирных хозяев (дали им 15, 10 и 10 лет) и еще какую-то, совсем неизвестную мне женщину (10 лет).
Преступление мое для того несытого 47-го года было, конечно, серьезным. Но когда, после полугода страшнейшей из тюрем, прокурор сначала потребовал меня расстрелять, а затем — заключить в лагеря на 25 лет, я понял: мне не жить. Суд над нашей группой длился минут 10, от силы 15. В последнем слове я вымолвил: мне, мол, только что исполнилось 20 лет,— несимметрично
у вас получается... Горькая шутка помогла: приговорили к 20 годам. Хлебные карточки отменили через несколько месяцев (а мой
прокурор повесился),— только это ничего не изменило...
Сейчас мне 61 год, но до сих пор два-три раза в неделю меня посещают кошмарные сны, с натуралистически-ясными подробностями: будто времена изменились, меня взяли досиживать мои 14 сталинских
лет, и я снова в лагере, этапе или на пересылке. И все это живое, сверхреальное, с такой страшной, безысходной тоской о детях, внуке, недоделанных делах, недописанных книгах, со скорбью о всех несчастных, опять согнанных деспотами за колючую проволоку,— что кошмары эти по полдня не дают работать, сосредоточиться, и я подолгу живу одновременно в двух мирах — нашем, сегодняшнем, и том, лагерном, сталинском.
...В каждом из великого множества наших лагерей (это — Южный Урал) было примерно по тысяче народу — кроме более крупных лагерей. Наш же, с издевательским названием-кличкой Первомайка
, был смешанным: уголовники содержались вместе с 58-й статьей — врагами народа
. Уцелели лишь немногие: месяц, два — и в зоне куда меньше народу; мне повезло: нары мои стояли так, что через уголок окна было видно, как ночью вывозили за зону наши трупы на санях, влекомых черным быком с одним рогом. Сдающий трупы — связку мерзлых полускелетов из морга, охваченную веревкой — отвернет брезент, а принимающий считает их, с размаху пробивая железнодорожным молотком с длинной рукояткой шары стриженых черепов — для верности, чтоб не выехал кто живым, и для твердости счета: грамоты у этих бериевских тружеников было не ахти. Сверившись по бумажке, выезжают за ворота.
Возили нас таким манером не очень чтобы далеко — до ближайшего старого ствола выработанной медной шахты. И так до следующего этапа — товарных вагонов узкоколейки, набитых людьми,— когда зона вновь делалась многолюдной...
Впоследствии подвыпивший надзиратель похвалялся как-то мне: приняли 14 трупов, а довезли... 13. Ведь пробивали, мол, башки каждому— куда ж проклятый зэ-ка (з/к
— так нас, заключенных, когда-то звали-писали) делся? Сопровождающих двое, один другому не доверяет,— завернули обратно. Проехали, дескать, полпути, а он, гад, лежит мерзлый, голый в канаве у дороги — выскользнул, значит, как ледяшка, пока ехали-трясли; обрадовались, мол мы, поржали, треснули его посильнее пару раз по башке шкворнем, довезли до места все 14, покидали вниз; то было совсем струхнули, а теперь хорошо и спокойно...
Преодолеть чудом год нулевки
(категория неработоспособных от голода и мук доходяг) и не оказаться на дне старой шахты с пробитой молотком головой мне помогли... эстонцы. Один барак был полностью занят ими; все они сидели по 58-й, держались дружно, сплоченно, и от охотников до посылок из дому — урок
, полуцветных
, шакалов
— организованно отбивались палками. А я рисовал им маленькие карандашные портреты, которые они как-то умудрялись переправлять через волю, минуя цензуру, в свою далекую Эстонию, быть может, у детей иль внуков этих замечательных натурщиков еще хранятся мои лагерные рисуночки. Зарабатывая так свой кусочек хлеба, я был теперь уверен, что его не отнимут блатные (произвол и раздоры среди зэ-ка поощрялись начальством, а то и провоцировались), и из эстонского барака я почти не выходил несколько месяцев. Нулевочные
дистрофия, цинга, пеллагра начинали отступать, заглох туберкулез...
Или другая картина. Развод, то есть вывод за зону на работу. Ворота лагеря открыты, за ними — автоматчики, резкие крики конвоя, собачий истошный лай. Низкое утреннее солнце равнодушно золотит окрестные горы, вышки, пар изо ртов строящихся бригад. Слева — наш оркестр: труба, тромбон, баян, барабан, скрипка: дирижером-скрипачом высокий пожилой зэ-ка эстонец в пенсне Римус.
— Становись! Стройся! Взяться под руки. Музыка! Первая пятерка—вперед! Гав, гав. Вторая пятерка! Гав, гав, гав. Третья! — звучит марш, хрипло лают овчарки, быстро, почти бегом выходят пятерки, пятерки, пятерки... Справа от ворот, чтобы все видели — два очередных трупа, с густыми жжеными цепочками автоматных — в упор — дырок на груди, животе, лице; поверх — фанерный щиток, на котором мною (я уже работал художником в культурно-воспитательной части — КВЧ) написано: Это будет с каждым, кто совершит попытку к побегу
. А за воротами конвой громко, с восточным акцентом, выкрикивает навеки запомнившуюся формулу:
— Бригада, предупреждаю! При попытке к побегу, за невыполнение требований конвоя в пути следования и на объекте работы конвой применяет оружие! Шаг влево, шаг вправо считаются побегом! Следуй вперед!
Злобный лай приспущенных конвойных собак заглушает уже удаляющиеся, издевательски-бравурные такты Прощание славянки
...
Контрагентские — на объектах за зоной — бригады работали у нас на медных шахтах (из наиболее крепких зэ-ка) на глубоких горизонтах, где уже жарко, сырость — с медно-серно-мышьячной отравой, от силы несколько месяцев — в нулевку
или сразу в морг; на известковом карьере, на торфоразработках. Урки — воры и бандиты — откровенно и вызывающе темнили, в чем им, как правило, столь же откровенно потворствовал конвой. Другое дело с остальными зэ-ка... Вот ты, а ну сбегай за доской
.— Начальник, ведь застрелишь
.— Что, еще раз повторять?!
И бедняга, нередко чуя, что это — Смерть, шел на нее почти с радостью,— а что нам, большесрочникам, было терять? Вдруг команда конвоя: Бригада, ложись!
— и длинная, по-над головами очередь с острым запахом пороха: а тому, кто за доской
— в спину, голову, грудь, а потом сапогами, стволом, прикладом, собаками... Не думаю, что за каждого убитого конвой получал государственные деньги; очень бы надо установить сейчас, какой из стимулов тогда действительно имел место...
С 1948 года нас уже не кидали в шахты, а зарывали в землю. Есть и мой скромный вклад в эту горестную процедуру. Я писал по две фанерных бирки для мертвых: буква и двух-трехзначное число, одна бирка побольше — на колышек поверх могильника, другая, с дыркой, маленькая — зачем-то привязывалась к ноге трупа шпагатом.
Камера в Златоустовской тюрьме. Койки и стол вварены в пол. Камеру держат
урки (сверху). Вблизи их — полуцветные, шестерки. Фраера — у параши. На столе — пайки, трогать которые без урок нельзя. В этой тюрьме (видна сейчас с вокзала) я просидел более полугода. 1947. Подпись Гребенникова.
В каждой секции барака висели Обязанности и права заключенных
— страшный документ за подписью Министра внутренних дел СССР Л. П. Берии; сохранился ли у кого экземпляр этой зловещей бумаги? А мне начальник КВЧ регулярно вручал очередной ГУЛАГовский набор предупреждений, назиданий, призывов, которые я писал крупно железным суриком на всех четырех стенах по-над верхними нарами каждой секции. Только честным трудом завоюешь право на досрочное освобождение
,— это было еще одно глумление, так как зачетов (когда, скажем, два года шли за полтора, как, например, на Колыме уголовникам с не очень большим сроком) в наших уральских лагерях не было вовсе.
Наши трупы вывозят за зону, пробивая молотком головы. Карабаш, 1947. Подпись Гребенникова.
Незабвенную Страну Моей Лагерной Юности — Южный Урал — я все же объезжаю теперь как можно дальше. Этот край скалистых романтичных гор и светлых бездонных озер хранит в своих недрах не только золото, медные руды и дорогие камни. Тысячи, десятки тысяч нашего брата зэ-ка — рабочих и колхозников, партийных и беспартийных (ворье и бандиты выживали, отбирая наши пайки, и оберегаемые охраной от тяжких работ), мужчин и женщин, учителей и студентов, стариков и почти детей — все без исключения и разбора с проломленными черепами (убежден: через десятилетия горняки и археологи подтвердят это вещественно) покоятся — нет, не покоятся, взывают! — в старых шахтах и человеко-могильниках огромных лагерных архипелагов седого Урала: в тех горных краях лагерь от лагеря был почти в пределах видимости. За 6 лет я сменил три таких острова
...
Конечно, ни одной фамилии контрагентских садистов-конвоиров я не знаю. Забыл чины-фамилии начальников надзора, оперуполномоченных. И все же, кой-кто запомнился. Это — начальник лагеря майор Дураков (не шучу, действительно фамилия), чье хобби были смотры
расстрелянных в побеге
; мой непосредственный начальник КВЧ старший лейтенант Рязанцев — недалекий, злобный, солдафон-бериевец; из внутрилагерных надзирателей отличались жестокостью к зэ-ка сержанты по фамилиям Столбинский и Хайло. Однофамильцев прошу не обижаться, но этот маленький списочек ведь не помешает нам в пору Гласности, не так ли?
...Почему нацистские военные преступники, истреблявшие советских людей, осуждены; скрывающиеся — разыскиваются до сих пор, а вот командование бериевских ГУЛАГа, управлений, лагерей, тюрем, надзиратели, конвоиры, творившие фактически то же по отношению к своему же, многострадальному советскому народу, — живы-здоровы, при орденах-медалях, солидных пенсиях? Ведь эти сталинские сатрапы, в прошлом полуграмотные, но поднаторевшие за эти годы, а главное, фанатически (или политически) прикрытые своими более молодыми почитателями-покровителями, могут объединиться и совершить непоправимое: ох, как узнаю я их голос в иных газетах и журналах.
Карабаш 1948. Нулёвка
в бане. У нее были натуральные хвосты — выступал копчик. Я свободно охватывал свою талию — сходились пальцы. Подпись Гребенникова.
Доходяга из нулевки. Многие из них варили искрошенную пайку в крутосоленой воде. В результате — опухание, морг, ствол старой шахты. Карабаш, 1948. Подпись Гребенникова.
...Мой коллега и наставник, ленинградец-блокадник (художник) А. Г. Александров, отбывавший на Урале весь свой червонец
по 58-й статье, еще недавно был жив, как мне с трудом удалось узнать. Но после лагерей этот интеллигентнейший человек ни на какие контакты ни с кем не шел — вероятно, пострадала голова (или предвидит недоброе), а как хотелось бы мне, чтобы Анатолий Георгиевич откликнулся. Его помощник-земляк ленинградский рабочий-блокадник Александр Томилин (ст. 58-я, 10 лет) — скромный честный труженик и тоже истинно советский человек — не дожил до Светлейшего дня — смерти Сталина, не увидел двух детей и жену: нулевка
, этапы, паралич, смерть, фанерная бирка на ноге... А где смелый, талантливый ученый, хирург-виртуоз Антон Петрович Луя (58-я, 10 лет, за то, что немец Поволжья), спасший жизни сотням зэ-ка, в том числе и мою?
Мелькнула мысль-сравнение, нелепая, но: Гитлер не уничтожал
(здесь прошу добыть и напечатать цифру: сколько в апофеозе культа содержалось в лагерях-тюрьмах советских людей — своих
немцев в такой ужасающей пропорции, как это делал СталинГолос Америки
утверждал, что 13 миллионов — и сколько там погибло, замучено, расстреляно, хотя бы пока примерно).
Карабаш, 1949. Нач. лагеря майор А. Дураков. Нередко был пьян, и весь путь от уборной до штаба, застегивая бриджи, не мог попасть пуговицей в петлю.
...Уходя в 1953 году из лагеря, я давал подписку Советскому Государству о неоглашении всего, мною испытанного. Я и молчал, особенно при Брежневе (давайте хоть иногда эпохи называть именами их создателей — это точнее и емче, чем невнятное, осторожное застой
),— когда имя Сталина при докладах во Дворце съездов вызывало аплодисменты и овации, и выползла вновь гадина-лысенковщина, и народ начал опять озираться и говорить шепотом. А сейчас, в пору Большой Гласности, тем более на склоне лет — уже не посадят! — считаю себя вправе отказаться от той подписи и подробнейшим образом, но и без преувеличений, рассказать обо всем увиденном и пережитом в книге со своими же документальными рисунками (если до конца работы над нею не наступит конец Гласности). В эпиграфе поставлю слова Фучика: Люди, будьте бдительны!
Злобы у меня нет. Страх — остался. Наверное, это от ночных сталинско-лагерных кошмаров. Упаси боже, что это — предчувствие чего-то иного: Неужто старая тюрьма центральная нас всех, проклятая, обратно ждет?
И хоть бы зловещая периодичность, цикличность пиков репрессий-застоев оказалась случайной, не интерполировалась и канула в Лету...
После амнистии я работал художником-оформителем и декоратором в клубах, затем директором и преподавателем художественной школы (за что имею медаль); ныне — я биолог-самоучка без образования (университеты мои —тюрьма и лагеря), автор более 150 научных трудов по агроэкологии, энтомологии, охране природы, биофизике. И — астрофизике, несмотря на то, что в Науку Юности — астрономию — после лагерей сталинисты меня так и не пустили. Еще автор 4 книг, многих выставок (художник-анималист), организатор первых в стране заказников для насекомых (благодарности Академии наук СССР, ВАСХНИЛ, Госагропрома), создатель Музея агроэкологии СО ВАСХНИЛ и панорамы (точнее, сферорамы) Целинная степь
.
Полуцветные (воры не в законе
). Мушкатан — неунывающий казах. Карабаш, 1949. Подпись Гребенникова.
Уже 15 лет работаю в Сибирском НИИ земледелия, где в анкетах проставил себе не судим
(коль судимость снята — так когда-то велели юристы). О реакции руководства и коллег, если этот материал будет опубликован, тут же сообщу. Заранее знаю — мне будет нелегко, если не хуже; для многих здешних брежневцев-лысенковцев (метастазы лысенковщины, похоже, неистребимы) я под судом не был
. Пример: много лет я иллюстрировал книги известного писателя-энтомолога И. А. Халифмана. Но когда он узнал, что я при Сталине сидел
,— отвернулся, хотя этот влиятельный в биологических, кругах человек много помогал мне в прошлом. Еще бы: он — лауреат Сталинской премии, недвусмысленно изложивший свое политическое кредо в своем послесловии в книге Рем и Шовена Жизнь и нравы насекомых
(Москва, Сельхозгиз, 1980 г.),— сумевший даже в тот, как вы все помните, далеко не застойный
год проклясть вейсманистов-морганистов
и поднять на щит былое мракобесие лысенковствующих биологов, хотя кровь невинных жертв на их руках тогда была еще тоже свежей. Якшаться с узниками сталинизма такие, мягко говоря, не любят — а ну как такой оказался бы моим директором? — но их, как видите, много, очень много, во всех звеньях и эшелонах нашего общества.
И еще, чтобы не подумалось, что это — бред начитавшегося перестроечных
книг-газет старика-сутяги с гипертрофированными воспоминаниями, справьтесь в МВД: наши дела со всеми лагерными данными (или хотя бы карточки) должны быть целы. Взяли меня в г. Миассе в июле 1947 г., судили в Златоусте в 1948 г. (Указ През. Верх. Сов. СССР от 4/VI.1947 г., ст. 2, ч. 2, срок 20 лет); освободили по амнистии из лагеря Увильды Челябинской области в июне 1953 года. К сожалению, моя справка об освобождении запрятана мною или домочадцами в горах бумаг и трудов так далеко, что проще и быстрее будет подтвердить мою судимость через МВД, куда я могу прислать и свои дактилоскопические отпечатки — в Центральной картотеке МВД мои пальчики
остались...
Враги народа
— обитатели эстонского барака. Слева — скрипач по фамилии Римус. Карабаш, 1949. Подпись Гребенникова.
Единственный мой учитель живописи — лениградский художник А.Г. Александров — статья 58 срок 10 лет. Карабаш, 1949. Подпись Гребенникова.